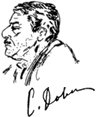
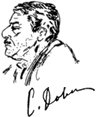 |
Sergei Dovlatov :: Сергей Довлатов >> СЛОВА >> |
Николай Анастасьев. Слова — моя профессия. — Журнал «Вопросы литературы», № 1, 1995.
«Похожим быть хочется только на Чехова» — из «Соло на ундервуде», российской части «Записных книжек».
«...Я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком» — из одного нью-йоркского интервью.
Как это, собственно, понимать?
Что Чехов, в представлении Довлатова, не писатель? Что близок ему на самом деле Антоша Чехонте, а не автор «Дамы с собачкой»?
Или, хоть и уверяет Довлатов интервьюера в обратном, это все-таки жеманство, каким грешил, например, столь почитавшийся им Уильям Фолкнер, неустанно повторявший, что напрасно в нем видят писателя, — он всего лишь фермер, деревенский парень, любящий рассказывать всякие истории.
А может, ни то, ни другое, ни третье, и вообще никакого противоречия нет, дело просто в сроках жизни? Запись сделана в молодые годы, когда, при всех немилостях судьбы, казалось, что все впереди, а интервью давал зрелый, почти пожилой автор, готовый признать, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из него не получилось.
Так счесть удобно и соблазнительно. Причем ничего обидного для Довлатова в том не было бы.
Рассказчик — Марк Твен, а разве он меньше Мелвилла или Генри Джеймса — явных писателей?
Рассказчик — Шервуд Андерсон, тот самый, которого Фолкнер назвал отцом своего литературного поколения.
Правда, в иерархии, выстроенной самим Довлатовым, писатель стоит явно выше: он действует «на космическом уровне», в то время как рассказчик — всего лишь на «уровне голоса и слуха».
Какой там космический уровень! Мало-мальски приличная перспектива и то не угадывается. Потом, правда, станет ясно, что есть она, эта перспектива, или, можно бы сказать словами Томаса Манна, есть «стесняющееся заговорить во весь голос» повествование о времени и самом себе — жертве этого времени и печальном его герое. Но до этого целомудренно скрывающего себя юмором, как скорлупой, защищенного ядра еще предстоит добраться, а сначала глаз останавливается только на черточках быта, а слух улавливает лишь обрывки случайных застольных бесед, анекдоты, забавные или грустные. Недаром одна из его книг так и названа — «Не только Бродский. Русская литература в портретах и анекдотах». Портреты-фотографии сделаны Марианной Волковой, а текст сочинен Довлатовым. Построено здесь все на явном, вызывающем контрасте. Допустим, на портрете усталый, куда-то внутрь себя обращенный взгляд Бродского, а на другой полосе разворота — байка:
Так вот, знакомый спросил у Грубина:
— Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?
Грубин ответил:
— Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров».
При этом, надо заметить, перед Бродским — ровесником и Давним другом — Довлатов буквально преклонялся, прямо называя его гением.
Некоторый сюжет в довлатовских историях, разумеется, угадать можно, но не строгий, не обязательный, готовый на полуслове оборваться, с тем, чтобы свободно перелиться в другой Рассказ, а затем продолжиться как бы с отточия. Идет, например, в Калифорнии какой-то симпозиум, несколько напоминающий, впрочем, петушиный бой между представителями разных идеологических течений русской эмиграции. Рассказчик, посмеиваясь, наблюдает за битвой титанов. Вдруг открывается дверь в его гостиничном номере — и на пороге возникает бывшая жена. Повествование, естественно, переносится в иное время и в другие места. Такое устройство прозы может навести на мысль о Прусте с его ажурной вязью ассоциаций. Но ничего прустовского на самом деле нет (хоть имя это и появляется в «Записных книжках»). Когда в «Погоне за утраченным временем» из вазочки с конфетами вырастает перед рассказчиком весь городок его детства, то все, словно на грани сна и яви, плывет, предметы несколько утрачивают осязаемость, подергиваясь неясной дымкой. А в повести «Филиал», о которой идет речь, письмо отличается предельной четкостью и материальностью, каждая картина завершена и как бы самодостаточна. Это явлено даже графически: пробелами между эпизодами, иные из которых занимают несколько страниц, а иные — несколько строк.
Немалое, даже очень большое место занимает фон — городской пейзаж Ленинграда, Таллинна, Нью-Йорка. В пейзаж этот вписаны герои, точнее, персонажи, еще точнее — силуэты, наброски, любительские вроде снимки.
В основном это фигуры обочинные, маргиналы, как теперь бы сказали. Не то чтобы алкаши, но публика сильно пьющая. Не то чтобы совершенные бездельники, но работой себя не перегружающие. Не то чтобы вполне циники, но уж никак не носители высокой нравственности. Это и не позволяет окончательно отдать этим симпатичным и редко унывающим бродягам любовь и сочувствие. Хотя и то, и другое тоже, конечно, испытываешь.
Есть, с другой стороны, люди преуспевающие — номенклатура, чаще всего местного масштаба. Тех, кто предвкушает разоблачения, сатиру и тому подобное, ждет разочарование. Все это совсем не монстры, закованные в броню чиновного равнодушия и безмыслия. Играют, конечно, по правилам, но, кажется, сами иногда тяготятся ими. Довлатов нередко ставит их в разные нелепые положения — прореха на штанах у редактора республиканской газеты, невыносимо жмущие ботинки у партийного секретаря, — но просто чтобы посмеяться и, пожалуй, немного пожалеть. Щедрина на этих страницах нет и в помине. Скорее — Марк Твен.
Ну и, наконец, эмигранты — тоже в освещении не весьма обычном. Где борцы с тоталитарным режимом? Где страдальцы? Узники совести? Сложившийся образ размывается до неразличимости, и на его месте возникают лица все тех же аутсайдеров, только оказавшихся в чужеродной среде. Недаром одну из эмигрантских своих повестей Довлатов и назвал — «Иностранка». Иностранка не просто в семантическом значении слова, но прежде всего по неустроенности, по незадавшейся судьбе. А над интеллектуальными и гражданственными претензиями эмигрантов Довлатов откровенно, хотя и совершенно беззлобно, иронизирует. Не надо только говорить о душевной черствости и неуместном ерничестве. Во-первых, Довлатов и сам, как известно, эмигрант и, стало быть, «над собой смеется». А главное, эмиграция как художественное событие и эмиграция как событие общественной жизни — совсем разные вещи.
Впрочем, я снова забегаю вперед.
Хорошо, есть происшествия, есть мелькающие лица, расположенные вне всякой иерархии. Скажем, на одной странице рядом и на равных могут очутиться Фрейд, Набоков и некто Шлафман, копающий на даче яму под смородиновый куст.
Но должна же быть в повествовании, пусть и в «рассказывании», какая-то логика, хоть какое-то связующее звено.
Должна не должна — еще вопрос, но, во всяком случае, такая скрепа есть.
Это, скажем так, — лирический герой.
Порой он вдруг приоткроется в щемяще-грустном признании: «Что я мог ответить? Объяснить, что нет у меня дома, родины, пристанища, жилья?.. Что я всегда искал эту тихую пристань?.. Что я прошу у жизни одного — сидеть вот так, молчать и не думать?..»
Порой — в тезе почти философической: «...человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоестественным».
И нет нужды, что этот герой ни в коем случае не становится выше иных персонажей, а порой даже как бы растворяется в массовке или в крайнем случае отводит себе роль конферансье («Записки ведущего» — жанровое обозначение повести «Филиал»). В любом случае его присутствие ощутимо.
Но только впрямь ли это лирический герой? В том терминологическом смысле, который вкладывает в него литературная наука? И может быть, мы просто уступаем давлению авторской воли? В первом из «Писем к издателю», которыми прострочена повесть «Зона», говорится, что «там действует один лирический герой».
Что если это вовсе не художественная величина, а просто человек с известной судьбой и известным именем — Сергей Довлатов? И вся эта, а также другие истории всего лишь натурально воспроизводят передряги, выпавшие на долю этого человека? И персонажи не какие-то «типы», «характеры», а вполне реальные и многим знакомые люди, разве что имена сменившие, но так, что угадать нетрудно? А интерес и обаяние рассказов заключены лишь в поразительной естественности слога и чувстве меры?
Тут я намерен сделать нечто вроде обширной врезки, где речь пойдет о недолгом, увы, опыте личного знакомства с Сергеем Довлатовым. Те, кто, возможно, заинтересуется этой публикацией, вполне могут данный сюжет пропустить, тем более что относительно недавно вышел «довлатовский» номер журнала «Звезда», и среди его авторов-мемуаристов — люди, знавшие Сергея куда продолжительнее и ближе моего. В свое оправдание могу сказать лишь, что суетного желания продемонстрировать некоторую близость к человеку, к которому теперь пришла, с большим запозданием, громкая слава, нет. Просто так мне легче понять и артикулировать в меру этого понимания и связь, и границу между рассказыванием и писательством.
Мы встретились в Нью-Йорке году, кажется, в восемьдесят девятом. Впрочем, эпистолярное знакомство произошло несколько раньше. Журнал «Иностранная литература», где я тогда работал, разослал анкету русским писателям-эмигрантам третьей волны.
По прошествии недолгого времени из Нью-Йорка пришли ответы, оказавшиеся куда содержательнее и остроумнее вопросов. Но дело даже не в этом. Сейчас я перечитал публикацию, и, как выяснилось, первоначальное ощущение не переменилось: поразила тогда какая-то совершенная неагрессивность довлатовской интонации, полное отсутствие обиды на свою судьбу и власть, которая, не прибегая, как в иных случаях, к откровенному насилию, выдавила писателя из необходимой ему, близкой и понятной среды. Этот негромкий голос (как, кстати, и голоса иных, далеко не всех, правда, участников анкеты) звучал особенно целомудренно на фоне воинственного шума разоблачительной риторики со стороны враз прозревших интеллектуалов-сограждан. Все внезапно оказались тайными страдальцами, противниками режима и безупречными демократами. Благо в позу борцов отныне можно было становиться безо всякой опаски. Как мало нас было и как много осталось — примерно в этом роде звучал какой-то анекдот перестроечных времен.
Столь же негромко и словно бы неохотно говорил Довлатов и о своих писательских делах, хоть оснований, в том числе и внешних, было у него к тому, пожалуй, поболее, чем у многих других. Думаю, за вычетом Бродского и, наверное, Аксенова Довлатов стал самым известным на Западе русским писателем своего поколения. Публикации в престижном «Нью-Йоркере», отзывы Курта Воннегута и Джозефа Хеллера — вполне достаточное тому подтверждение.
И только одно, помню, меня тогда задело. К рукописи, предназначенной для публикации, была приложена записка, выдержанная в тоне даже не просто сухом, а прямо-таки бюрократическом: «Уважаемый господин Анастасьев...». Это в ответ на мое-то: «Дорогой Сергей Донатович!». Обидно.
Так была обозначена дистанция, проведена некоторая черта, переступать которую не следовало. Поэтому, оказавшись вскоре после выхода журнала в Нью-Йорке, куда прихватил с собой несколько экземпляров для передачи авторам, в том числе и Довлатову, встречи с ним не искал. Собирался переслать почтой. Но тут позвонил Владимир Соловьев, давний мой ленинградский, потом московский, а потом нью-йоркский знакомый и одновременно приятель и сосед Довлатова. Посидим, говорит, у меня, а попозже зайдем к Сереже. Он ждет.
Риго-парк, район Квинса, где жил Довлатов, описывать не собираюсь, — кто интересуется, может прочитать хотя бы «Иностранку». Там местный пейзаж изображен вполне красочно. Замечу лишь, что дома здесь так же мало отличаются друг от друга, как где-нибудь в Бирюлеве, к тому же под одним и тем же номером могут оказаться четыре-пять разных улиц: «street», «avenue», «road», «drive». Словом, несмотря на полученные инструкции, проплутали мы с женой изрядно и в результате сильно опоздали. Довлатову с его почти болезненной, как выяснилось впоследствии, пунктуальностью это явно не понравилось. Разговор, хоть и сидели мы не за пустым столом и пили в основном не лимонад, не очень клеился.
— Спасибо за журнал...
— Ну что вы, это вам спасибо, что написали...
— Ну как там в Москве?..
— Да так, мало-помалу...
— А что такой-то (следует имя одного из общих знакомых, каковых нашлось немало) поделывает?
— Жив-здоров...
Пора было уходить. Но тут обнаружился конфуз. Еще в самом начале вечера такса по кличке Яша, отлаяв положенное, утихла и на всем протяжении вяло протекавшего разговора копошилась у меня под ногами. Как выяснилось, Яшке понравились мои брюки — штанину он сжевал чуть не по колено. Вид у меня был, надо думать, совершенно идиотский, и все расхохотались. А Сережа, напротив, страшно смутился и живо, насколько это позволяла его мощная комплекция, а с другой стороны, размеры кухоньки, двинулся к двери: «Сейчас схожу в магазин за брюками». Позы в этом не было никакой — Сергей всерьез собирался компенсировать ущерб, благо даже в этой сонной части Нью-Йорка есть ночная торговля.
Благодаря этому забавному, совершенно в стиле инженера Щукина, эпизоду натянутость пропала, застолье началось как бы заново, и Сережа обнаружил себя во всем своем неотразимом обаянии. Потом последовали другие встречи, к сожалению, немногочисленные, и письма.
Друзьями мы не сделались, не стали, пожалуй, и приятелями, даже на «ты» не перешли, хоть и почти ровесники. Вообще, как мне кажется, Довлатов, в отличие от своего двойника, известного по книгам, совсем не легко сходился с людьми, строго удерживая дистанцию, что обозначалось в том, первом полученном мною письме. А уж фамильярность была ему вовсе чужда, напротив, во всей повадке ощущалась изысканная, чуть старомодная церемонность традиционного петербургского лада. Даже к сыну моему, которому было тринадцать лет, когда я познакомил его с Сережей, он неизменно обращался на «вы» и включал в общий разговор на равных. Может быть, именно эта органическая воспитанность и внутреннее благородство всегда удерживали Довлатова в стороне от всякого рода, как сейчас говорят, тусовок, которых в эмигрантской среде хватает. Ни к какой «партии» он не принадлежал.
...Да, дружба не завязалась, но некоторая взаимная приязнь, смею надеяться, возникла. Откуда она происходила с моей стороны, понятно всякому, кто Сергея и в глаза не видел. Достаточно прочитать его книги. Ведь пусть и сохраняется немалое расстояние между Довлатовым — сочинителем книг и Довлатовым — их же, этих книг, персонажем, отблеск личности сохраняется.
А с его? Не знаю, уж слишком по-разному сложилась у нас жизнь, и каждый сам свою выбрал. Он — автор, которого не печатали, почти изгой, ничуть своим изгойством не кичащийся, однако же слишком цельный и честный, чтобы поступиться внутренней независимостью (есть у него повесть под названием «Компромисс», но уже самое ее построение — «Компромисс первый», «Компромисс второй» и т. д. — указывает на то, что это прием, литература). Я — не то чтобы преуспевающий, однако же вполне устроенный литературный работник.
Может, дело хотя бы отчасти в том, что я оказался причастным к «рассекречиванию» имени Довлатова дома, в России, — публикация в «Иностранной литературе» была, если не ошибаюсь, первой. Это уже потом последовали различные журнальные и книжные издания (выходящие сногсшибательными по теперешним временам тиражами).
Или он нашел во мне собеседника, готового на пристойном уровне поддерживать разговор об американской литературе, особенно о Фолкнере и Андерсоне?
Как бы то ни было, однако, считаю, что имею некоторое право на личные интонации и воспоминательные сюжеты, тем более, повторяю, что для меня в данном случае это путь к Дов латову-писателю.
С самого начала сложилось, а потом только окрепло ощущение, что, прожив в Нью-Йорке долгие годы, Довлатов внутренне так и не принял американский устав. «Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев шесть, подобает российскому литератору, валялся на диване», — это можно прочитать в повести «Ремесло».
Кажется, так оно и было в действительности, но вообще-то буквально понимать не надо, это снова литература, сочинительство. Работал Довлатов много и сосредоточенно, был, повторяю, человеком на редкость обязательным, так что зазор возник не оттого, что некоему симпатичному и талантливому бездельнику не нашлось места в стране, где ценятся как раз деловитость и неуклонный практицизм.
Просто, я думаю, порядок души, да и распорядок дня Сергея Довлатова болезненно не совпадали с порядком Америки как системы существования. Может, поэтому он так и не научился толком изъясняться по-английски, используя в качестве переводчиков друзей, знакомых и сына, который родился уже там, в Нью-Йорке, и наоборот, по-русски говорит с уловимым акцентом.
Была, впрочем, не только метафизика. Тот, кто ругает российских бюрократов, просто не знает, что такое бюрократия настоящая, например, американская. Тут формалистика изощренная, и все установления нужно знать досконально и выполнять неуклонно. Вот это, насколько я понимаю, Сережу страшно удручало. С другой стороны, он явно гордился немногочисленными, видимо, достижениями в постоянной борьбе с крючкотворством (не нужно думать, что это ему одному персонально выпала такая доля, борьбу ведут все, только для большинства это такая же рутина, как, положим, мытье рук перед едой). Помню, с каким упоением он рассказывал, как удалось отспорить несколько сотен у налогового инспектора.
В общем, остался Довлатов в Нью-Йорке так же бездомен, так же неустроен душевно, как некогда в Ленинграде и Таллинне. Несомненно, литература была, помимо неодолимой профессиональной потребности, формой бегства от этой неустроенности, поиском дома. К несчастью, не единственной формой. Порой и тут он находил повод для юмора. Я, наверное, единственный человек, рассказывал Сережа, которого держали под холодным душем сразу два нобелевских лауреата — Иосиф Бродский и Чеслав Милош. Но кончилось-то все ужасно. Так что об этом помолчим.
Иное дело, что ни жестом, ни намеком Довлатов не давал ощутить чего-то похожего на неприкаянность. Мармеладовщина была ему совершенно несвойственна. Не прилагая к этому ни малейших усилий, он сразу заполнял собою все окружающее пространство. Люди, хорошо его знавшие, утверждают, что Сергей равно владел искусством рассказывания и слушания. Не смею спорить. Только мне лично показалось, что он — прирожденный солист, в живом общении, разумеется; литература — дело другое, к ней я скоро перехожу. Он неизменно «тянул одеяло на себя», только получалось это на редкость органично, с какой-то особенной непринужденностью. Стоило, допустим, посетовать на дурную память, которая понуждает составлять перечень дел и телефонных звонков на завтра, как Сережа немедленно перебивал:
— Это у вас дурная память?! Вот я действительно все забываю. Вы записываете просто, что надо позвонить такому-то или такой-то. А я записываю так: позвонить Н. и поздороваться с ней сухо. (Уже потом я обнаружил сходную запись в «Соло на IBM», но письменная форма не вытеснила первоначального слухового ощущения сказанного слова.)
Рассказывал и лицедействовал Довлатов виртуозно, на уровне Андроникова. Разница, пожалуй, в том, что Ираклий Луарсабович всегда ощущал себя, даже если не выходил на сцену, актером, довлатовский же театрик был совершенно невинен. То есть художественной своей сущности не сознавал, гиперболы чуждался и стоял только на полной натуральности.
Личное знакомство, так уж, к стыду моему, получилось, предшествовало читательскому, и когда я начал одну за другой читать довлатовские повести, поначалу показалось, что все, или во всяком случае многое, уже известно: и интонации те же, и события.
В «Ремесле» повествуется о том, как четверо российских эмигрантов-журналистов затеяли издавать в Нью-Йорке новую русскую газету. Очевидно, однако же, что за выдуманным «Зеркалом» стоит вполне реальный «Новый американец», а за незадачливыми партизанами на ниве газетного дела — тоже реальные лица. Они слишком легко узнаются по устным рассказам автора.
Или, положим, радиостанция «Третья волна» и ее сотрудники — Тарасевич, Чобур и другие. Тоже мне камуфляж — и «Свободу» знаем, и «Тарасевича» без труда вычислим. Всего-то и выдумки, что географически действие сдвинуто (против действительности) с угла Бродвея и Пятьдесят седьмой улицы на угол Сорок девятой и Лексингтон.
Да что там сюжеты: нередко даже фразы, произнесенные Довлатовым в случайной беседе, материализуются в повествовательную речь.
Телефонный разговор, подслушанный героем повести «Заповедник»:
Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авторучку...»
А зачем доставать-то? Очень похожая запись была в «Соло на ундервуде», нечто в этом роде я слышал от автора, опять-таки в изустной передаче. Получается, таким образом, что он занимается автоцитированием.
Словом, жизнь, выстроившаяся в череду занятий и застолий, рвет тонкую паутину литературы, которая, впрочем, это му насилию ничуть не противится.
И только по прошествии времени становится понятно, что перевод устной речи в повествовательную, а также обратно — далеко не безобиден (хотя должен признаться, личное знакомство с автором и многими из его персонажей мне до сих пор, скажем так, не помогает — все и всех пытаюсь соотнести с действительными положениями и реальными людьми; Довлатова лучше читать без этих помех).
Домашний театр, в котором актер не дорожит своим исполнительским мастерством, превращается в искусно и расчетливо — хоть и скрыт расчет во внешней легкости слога — поставленный спектакль.
Рассказчик становится писателем.
Не в том, правда, смысле, какой он сам, если верить «Записным книжкам» и интервью, вкладывал в это понятие. Ни космических далей нет, ни разговоров «о том, ради чего живут люди», ни тем более попыток спасать людей и страну — от чего бы то ни было. Любая возвышенная интонация кажется ложной. От кафедры бежит, как черт от ладана. В этом отношении Довлатову явно неблизок проповеднический пафос русской традиции, от Гоголя до Толстого. Но с редкой для Довлатова исповедальностью звучат такие слова:
«В местной библиотеке я нашел десяток редких книг о Пушкине. Кроме того, перечитал его беллетристику и статьи. Больше всего меня заинтересовало (прошу обратить внимание на лексику: не «тронуло», не «поразило» и т. п. — просто «заинтересовало». — Н. А.) олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу хищнику и жертве.
Не монархист, не заговорщик, не христианин — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом.
Его литература выше нравственности. Она побуждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе...» («Заповедник»).
Не монархист, не заговорщик... Тут нить этих заметок, которые, вполне себе отдаю в том отчет, никак не выстраиваются в статью, снова обрывается.
Не раз и не два я спрашивал Сергея, отчего он никак не выберется в Россию. Даже приглашал официально. Он вяло отговаривался недостатком то времени, то денег.
Но мне кажется, удерживали его не внешние обстоятельства, во всяком случае, не только они. Совершенно не могу вообразить Довлатова в климате нашей теперешней литературной жизни, которая, к несчастью, почти целиком укладывается в жизнь окололитературную. Полюбившуюся многим эстетику митинга он не понимал и не принимал. «Писателем у микрофона» стать бы не мог ни при каких обстоятельствах (хотя деньги, помимо писательства, зарабатывал на «Свободе», то есть как раз «у микрофона», но это другой жанр). Патетика и гражданственный надрыв тех, кто называет себя поборниками свободы, вызвали бы у него разве что необидную усмешку. Литература как часть общепролетарского дела была в его глазах не большим абсурдом, чем литература как часть дела общедемократического, писатель-демократ — таким же фантомом, как, допустим, писатель-монархист. «После коммунистов, — запись из «Соло на IBM», — я больше всего ненавижу антикоммунистов».
Жизнь Довлатова сложилась так, что его можно счесть диссидентом: дома не печатают, а за границей, напротив, публикуют, отъезд в Америку и, само собой, смена гражданства.
Но никаким диссидентом он, конечно, не был. Недаром об отъезде за границу и обо всем, что ему предшествовало (беседы с уполномоченными КГБ, две недели в следственном изоляторе и т. д.), Довлатов пишет неохотно, как бы пунктиром, и уж никак не пытаясь пробудить сочувствие к своей несчастной судьбе.
«Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово «активист» для меня звучит как оскорбление». Это снова цитата из «Заповедника», притом, как мне кажется, заглавие этой небольшой повести, как минимум, двусмысленно: им обозначаются Михайловское и Петровское — пушкинские места, но также и собственная душа, внутренний мир — суверенное пространство, готовое отстаивать себя от любых покушений извне.
И тут выясняется, что, не будучи диссидентом (в том смысле, какой вложила в это понятие наша недавняя история), Сергей Довлатов был инсургентом, если иметь в виду, что в поэзии, как говорил Октавио Пас, всегда заключена энергия протеста — не против власти или какой-то определенной формы правления, но против самой действительности, в соперничестве с которой творится иной, со своим уставом мир.
Этот мир может быть совершенно не похож на здешние пределы, — как, например, у Набокова или Борхеса. А может — очень похож, как у Довлатова. Но только похож.
Запись из «Соло на IBM»:
— Господа, как вам не стыдно?! Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете!»
Фразы из повести «Ремесло»:
— Главное вырваться на свободу. Бежать из коммунистического ада. Остальное не имеет значения».
«Излюбленным нашим занятием было — ругать американцев... В стране беспорядок. Бензин дорожает. От чернокожих нет спасенья. А главное — демократия под угрозой. Не сегодня, так завтра пошатнется и рухнет. Но мы ее спасем! Расскажем всему миру правду о тоталитаризме».
Допускаю, что издатель Александр Глезер, а также упомянутые друзья, прочитав эти строки, обиделись. Допускаю также, что нечто подобное имело место в действительности. Мне, во всяком случае, приходилось выслушивать амбициозные речи в таком роде. Один петербургский литературовед, ныне профессор университета в штате Висконсин, человек, который, как мне казалось, совершенно поглощен филологической наукой и всяческому «активизму» чужд, при недавней встрече с праведным гневом говорил, что Клинтон своими реформами в области здравоохранения сбивает Америку с верного пути и толкает ее в бездну социалистической утопии. В тоне собеседника был слышен топот коней апокалипсиса.
Но даже если в «Ремесле» есть житейская правда и если кто-то действительно обиделся, то совершенно напрасно.
Потому что все это — литература. Не личный выпад, не социальная критика, не борьба, не защита справедливости, а литература. Не больше, но и не меньше.
То есть, как говорил Чехов, род занятий, который предполагает умение писателя «себя принимать не всерьез».
То есть игра и забава, как утверждал Гете, а вслед за ним Томас Манн. То есть деятельность, которая не должна иметь практических последствий, как считал Андре Жид. То есть ремесло. «Слова — моя профессия» (Сергей Довлатов).
Не Слово с заглавной буквы, в котором звучит что-то торжественное, даже монументальное, но — слова.
То есть, по выражению Бродского, стилистика. А что такое стилистика? Попросту говоря, опять-таки слова, которые нельзя заменить и которые расставлены в наилучшем порядке.
Приведу отрывок из воспоминаний Иосифа Бродского о Сергее Довлатове по возможности полно — к нему еще предстоит вернуться.
Да, читая Довлатова, прежде всего испытываешь ощущение как бы полной безыскусности повествовательной речи; действительно, словно птица поет, без усилий и не раздумывая, какую ноту взять: просто такова природа, таково устройство голосового аппарата.
Ясно, что это иллюзия. Теперь, наверное, всякий читатель знает, что каждая новая фраза у Довлатова в сравнении с предыдущей начинается с другой буквы. Он на это специально напирал и в частных беседах (мне тоже приходилось слышать), и в публичных высказываниях, словно опасаясь, что решат, будто простота дается просто.
Точно так же легко улавливается предельный демократизм языка. Даже стилистический изыск воспринимается без усилий и как бы сам себя превозмогает. Неожиданны не слова, но их соположения, а также контекст.
Сюрреализм, воплощенный в правильных пропорциях. К тому же, как выясняется, все это герою, несколько взволнованному перспективой женитьбы, только привиделось. На месте инфернального Эриха-Марии (кузена невесты) оказался просто Эдик Малинин, тренер по самбо в обществе глухонемых. Но у Довлатова и сны на редкость материальны.
Впрочем, столь откровенный демократизм тоже отчасти обманчив. Довлатов, разумеется, ценит своего читателя, однако же не настолько, чтобы к нему пригибаться. Напротив, приходится — если, конечно, не просто скользишь глазами по странице, что всегда соблазнительно, — тянуться и думать.
Как говорил в письме к Суворину Чехов, «когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (1 апреля 1890 года). Такой же тайный расчет есть и у Довлатова. Сомневающихся отсылаю хотя бы к рассказам «Ариэль», «Игрушка», а также к сборнику «Демарш энтузиастов», — там многое построено на подтексте и недоговоренности.
Естественно, вспоминается Хемингуэй, тем более, что когда Довлатов начинал писать, автор «Фиесты», «Прощай, оружие!» и тогда еще не опубликованного, но в машинописных копиях гулявшего «Колокола» был бесспорным кумиром литературной (впрочем, не только литературной) молодежи. У Хемингуэя, как говорится, учились писать.
Отчетливые следы этой учебы есть и у Довлатова. Иногда на грани подражания, а то и за этой гранью.
«Ильвес выглядел абсолютно мертвым». Усилен только эпитет, один из персонажей романа «Прощай, оружие!» выглядел «очень мертвым». Правда, у Довлатова все снижено до фарса: оказывается, перепутали покойников, хоронят не того («Компромисс»).
«Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах...» Опять почти цитата — раскавыченная и развернутая, на этот раз из «Фиесты».
И даже на излете литературного пути, в последней своей крупной вещи, повести «Филиал», Довлатов помнил о Хемингуэе: «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь» — такова финальная фраза, прямиком перекочевавшая из финала «Прощай, оружие!» («Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем»).
Такие переклички слишком легко расслышать, и это, пожалуй, мешает осознать не поверхностные, но существенные черты связи. Как мне кажется, более всего привлекало Довлатова у Хемингуэя нечастое в литературе сочетание жесткого синкопического стиля с неожиданным, робким каким-то, совершенно недемонстративным лиризмом.
Самое «хемингуэевское» в прозе Довлатова не фразы вроде «Июнь выдался сухой и ясный, под ногами шуршала трава» (см. самое начало романа «Прощай, оружие!»), но построение, скажем, восьмого эпизода повести «Компромисс». Журналист и фотокорреспондент эстонской республиканской газеты отправляются в село, чтобы сделать репортаж о передовой доярке, отчитывающейся в своих успехах перед самим Леонидом Ильичом Брежневым. Ответственное мероприятие превращается в обвальную пьянку, каковая вполне оттеняет абсурд этого театра, хорошо осознаваемый всеми актерами, в том числе и девицами-сотрудницами местного райкома комсомола. Но напряжение создается в другой точке повествовательного поля. Сплошной динамичный текст, где, кажется, нет ни единого зазора, чтобы выразиться переживанию, вдруг обрывается:
Что я мог ответить? Объяснить, что нет у меня дома, родины, пристанища, жилья?.. Что я всегда искал эту тихую пристань?.. Что я прошу у жизни одного — сидеть вот так, молчать, не думать?..»
Тут, впрочем, щель едва приоткрывшись, закрывается:
Точно так сделаны рассказы из сборника «В наше время», прежде всего «Что-то кончилось», а персонаж по имени Ник Адаме, при всей разнице в опыте и обстоятельствах жизни, сближается с персонажем по имени Сергей Довлатов.
Имеет немалое значение и хемингуэевское мировоззрение, кодекс морального поведения, которым и определены самые резкие черты стиля этого писателя. Кодекс хорошо известен, в основе его лежат автономные ценности индивидуальной жизни, которые в эпоху тотального распада ценностей всеобщих остаются единственной опорой и надеждой на спасение. Подобно давнему нашему знакомому tenente Генри, лирический герой прозы Довлатова ищет, хоть и не столь явно, сепаратного мира.
Но тут, в момент сближения, Довлатов резко удаляется от классического образца.
Я снова, как и собирался, обращаюсь к мемориальному эссе Иосифа Бродского.
И далее, с особой силой нажимая на личный опыт, который выше любых литературных пристрастий, Бродский заявляет:
При всем доверии к безукоризненной искренности этого суждения я все-таки решаюсь его оспорить. Или скорее не оспорить, но уточнить. «Поколение», как видно, не только возрастное понятие или даже совсем не возрастное. Это скорее состояние души и взгляд на мир, и тогда, выходит, в одном поколении всегда живет несколько поколений.
Жило и тогда.
Одно — поколение Бродского и Довлатова, а также других людей старше и моложе, для которых творчество (не обязательно литературное) есть самодостаточная ценность.
Другое — поколение «шестидесятников», для которых творчество было средством протеста, чаще всего скрытого, но порою и явного. «Другие вправе... — продолжает Бродский, — объяснить эту нашу приверженность (индивидуализму. — H.A.) удушливым климатом коллективизма, в котором мы возросли. Это прозвучит убедительно, но соответствовать действительности не будет». Полагаю все же, что будет — будет соответствовать действительности «других».
И наконец, поколение большинства, к которому и я принадлежал, и которое в своей профессиональной работе (творчеством ее назвать не решусь) как раз с величайшим трудом побеждало в себе сознание неразмышляющего коллективизма и обретало независимость духа. Да-да, большинства, какими бы свободолюбивыми и бесстрашными протестантами ни представлялись публике люди, вчера еще вполне законопослушные. Иначе бы мы куда легче, без крови и страданий, перемещались в новую эпоху. В том и вина наша, и беда, а чего больше — пусть каждый рассудит наедине с собой.
Возвращаюсь, однако, к литературе.
Идея автономного человеческого существования, пишет И. Бродский, наиболее завершенно осуществилась в американской литературе, вплоть до Фолкнера. Тут тоже возникают оговорки, на сей раз более определенного свойства.
Да, верно, Фолкнер презирал толпу и боялся ее. Верно, он повторял многократно, что если что и имеет в мире значение, так это хрупкий, едва различимый голос человека, что если и суждено ему спастись — более того, выстоять и победить, — так только в одиночку. В этом смысле он как писатель развивался в русле не одной лишь американской, но всей, взятой как целое, западной литературы XX века. Трагические ценности индивидуализма Кафка и Музиль, Камю и Мальро, Голдинг и Грин отстаивали не менее решительно, чем Хемингуэй.
Но замечательная особенность Фолкнера в том и состоит, что «принцип автономности человеческого существования», при всей, казалось бы, неизбежности, был ему тесен и мал.
Личность у него — яркая, неординарная личность — всегда больше (переворачивая название известной эссеистической книги Иосифа Бродского), чем единица. Она всегда принадлежит тому, что называется у Фолкнера «community», общине. Легче от этого человеку? Да нисколько, наоборот, уделом его становится абсурд, трагедия и смерть. Ибо община есть не только плодоносный корень бытия, но также вместилище греха и преступлений перед природой и нравственностью, и каждый тянет за собой грехи всех. А в то же время — не умеет да и не хочет добиваться отдельного рая для себя. Из этого напряжения рождаются «шум и ярость», сотрясающие прозу Фолкнера. Из этого напряжения рождается и его стиль, в котором всегда скрыты «тринадцать точек зрения черного дрозда» и всегда звучит поразительное многоголосие.
Вот этим (а также стихией юмора, от которого в черном, холодном мире становится теплее и светлее) Фолкнер, при всей затрудненности своего стиля и был близок Сергею Довлатову. В данном случае я как раз мог бы сослаться на долгие с ним на эту тему разговоры, но не буду, ибо последний довод писателя — это все же само творчество, а не рассуждения по поводу оного.
Еще раз обращаюсь к биографическому очерку Иосифа Бродского. Конечно, он прав. Довлатов-писатель — это премьер и солист. Но ощутимо ведь, как все время старается он понизить собственный голос и дать зазвучать другим голосам. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не поднимается он ни над бомжами, ни над номенклатурой, ни над обитателями лагерной зоны. Его проза — целый мир, и создатель его вовсе не занимает в нем председательского кресла. Так что предельный демократизм стиля — ясное зеркало демократического мироощущения. «Мы», «наши» — такие же законные и неизбежные понятия у Довлатова, как «я».
Здесь уместно, пожалуй, возвратиться к самому началу этих заметок.
В каком, собственно, смысле Довлатов хотел стать похожим на Чехова?
В том ли, что «учился» у классика быть «не только судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем»? Да, и в этом, конечно, тоже, но тогда равно близкими ему должны казаться Флобер и Генри Джеймс, которые — один задолго, а другой незадолго до Чехова — последовательно утверждали эстетику авторской отстраненности.
Или в том, что в прозе его главное не события, а интонация, и что драматизм глубоко спрятан в неброской, лаконичной повествовательной речи? Да, и в этом, конечно, тоже, но тут ничего личного нет, и Довлатов как бы растворяется в атмосфере того всеобщего воздействия, которое оказал Чехов на современную новеллистику. Ведь это он отточил до совершенства тот тип новеллы, где сюжет уступил место лирическому переживанию и подтексту. Недаром Шервуд Андерсон, которого Довлатов тоже читал с безусловно профессиональным интересом, в своей нешуточной тяжбе с новеллистикой Мопассана и в особенности О. Генри постоянно оглядывался на Чехова.
Помимо всего этого была связь интимная, было то, что Довлатов, при всей симпатии и любви, не смог бы найти, во всяком случае в такой полноте и бесспорности, ни у Фолкнера, ни у Андерсона, ни тем более у Хемингуэя. Была унаследованная от Чехова готовность выслушать и понять любую точку зрения, был редкий дар сострадательности к любому и всякому.
Стихия Довлатова — оговорка. Его отталкивал вне партийный фанатизм и душевная аскеза, он чуждался и малейшего намека на категоричность. Ничем подтвердить не могу, но отчего-то совершенно уверен, что близки ему были речи Мадьярова из «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана (как были они, разумеется, близки и самому автору): «Чехов... сказал: самое главное то, что люди — это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы, — люди равны, потому что они люди... Чехов сказал: ...пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был, — архиерей, мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинский каторжник, лакей из ресторана...»
Не знаю уж, что чему у Довлатова предшествовало: идея форме или наоборот. Ясно лишь, что демократизм стиля у него идеально равен демократизму жизнеощущения.
В предисловии Андрея Арьева к трехтомнику Довлатова — самому пока полному у нас собранию его сочинений — есть такая фраза: «Из темной утробы жизни художник извлекает неведомые до него ослепительные смыслы». Не уверен, что это самые точные слова, — как-то уж слишком красиво и возвышенно звучит. Но вообще-то о потаенных смыслах речь пошла уместно.
Непринужденность довлатовского письма, виртуозная легкость выражения (писательство! писательство в первоначальном, свободном от идеологических напластований значении) есть неявный и уж тем более недемонстративный способ преодоления недоброй тяжести бытия. Не власти, не идеологии — но самой жизни. Недаром с редкой для себя серьезностью записывал Довлатов в «Соло на IBM»: «Творчество — как борьба со временем. Победа над временем. То есть победа над смертью». А вот инверсия — эту запись тоже следует воспроизвести, дабы не показался ненароком Довлатов моралистом, использующим слово, или пусть слова, во внеположенном смысле: «Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому что результат всего этого — литература».
Этим же, собственно, объясняется и тяга к разомкнутым пространствам, где независимость лирического героя не подавляет независимости других и самой жизни. К тому же самостоянье это не только благо и дар, но также бремя и моральный крест. Об этом Бродский написал проникновенно и точно. Словом, поиск равновесия, гармонии в безнадежно искривившемся мире — суть печально-иронической прозы Сергея Довлатова.
Книги его, при всем нынешнем равнодушии к чтению, интерес вызвали всеобщий и разошлись быстро. Можно видеть в этом запоздалое признание отличного стилиста-мастера. А можно — и хочется — знак того, что даже и людям, совершенно замороченным бытом и политикой, литература по-прежнему остается нужна.
Это внушает надежду на будущее.