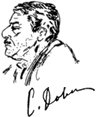
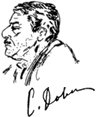 |
Sergei Dovlatov :: Сергей Довлатов >> СЛОВА >> |
СТО СЛЕПЯЩИХ ФОТОГРАФИЙ
Б. Пастернак. Гроза моментальная навек
Конец 60-х... Я работаю в Лениздате. Издательство наше — орган областного комитета партии. И вся его деятельность поэтому окрашена в яркие партийно-идеологические тона.
Моя должность называется громко — «редактор отдела пропаганды». На самом деле я обыкновенный «толкач», то есть проталкиваю на радио, телевидении, в газетах и где только можно рекламу бездарных и мутных изделий своей конторы: всевозможных «Блокнотов агитатора», «В помощь пропагандисту» и тому подобное. Вся эта макулатура вызывает тошноту даже у авторов, не говоря о читателях. Поэтому свою работу я активно ненавижу и стараюсь уделять ей как можно меньше времени.
У меня комнатка в конце коридора на последнем, пятом этаже Лениздата. Начальство никогда сюда не заглядывает, единственная сотрудница Нина где-то бегает, так что у меня можно спокойно посидеть и даже отпить из бутылки.
Сергей появился в сопровождении Андрюши Арьева, который был в ту пору, если не ошибаюсь, младшим редактором отдела прозы. Андрей-то нас и познакомил. Правда, чуть раньше, в издательском буфете. Но Сергея я начал помнить именно с его первого визита в эту мою комнатушку.
Когда видишь человека впервые, что-то в нем запоминается особенно резко и надолго. Обычно люди очень доверяют первому впечатлению, считая его чуть ли не ключом к характеру. Я бы не хотел на этом настаивать. И все-таки...
Меня поразило («поразило» — слово слишком литературное, но пусть будет) полное несоответствие внешности Сергея, всей его фигуры, его смеху. Вернее, манере смеяться. Тогда мне показалось, что именно смех, говоря словами Булгакова, выдавал Сергея с головой. Поясню.
От такого верзилы под два метра ростом, каким был Сережа, естественно было бы ожидать какого-нибудь шаляпинского рыка, гогота, ржанья... а ничего этого не было. Сергей смеялся каким-то коротким, или, как бы выразились в девятнадцатом веке, конфузливым смехом. И это делало его уязвимее, что ли. Хотя он все время старался демонстрировать именно уверенность и несокрушимость.
Иногда он посреди разговора внезапно втягивал голову в плечи, выставлял кулаки и делал несколько быстрых боксерских движений, как бы напоминая собеседнику, с кем тот имеет дело.
Вообще в те годы Сергей внутренне далеко не так был уверен в себе, каким хотел казаться, и первым выдавал его, да, именно смех.
Сергей никогда не обижался (по крайней мере внешне), если не встречал мгновенного понимания. Наоборот, я часто слышал от него звучавшую несколько комично (если учитывать его рост и вес) фразу: «Обидеть Довлатова легко, понять его невозможно». Особенно когда в конце какого-нибудь его рассказа возникала вдруг свистящая пауза. Потом это «невозможно» было заменено на «труднее». Но, по-моему, первый вариант лучше и точнее передает его тогдашнее состояние.
Надо еще принять во внимание, что были мы все в те годы нестерпимо ироничны, и прорваться, забить гол любому из нас было почти невозможно. Отголоски этих словесных упражнений есть в Сережиных «Записных книжках» (читай, например, «Пепел и алмаз»). «Черт знает что, — говорила наша общая приятельница Ирина Губарева, — невозможно ничего сказать. Все острят. Цепляются к каждому слову. Сумасшедший дом какой-то».
Действительно, шутили и острили мы постоянно. И иногда довольно жестоко.
— Познакомьтесь, — говорит, например, тот же Сережа, стоя со мной и со своей спутницей на углу Невского и Рубинштейна (на этой улице он жил). — Познакомьтесь. Это Саша Шкляринский, молодой, так сказать, поэт... А это моя старинная подруга Ирина, известная тем, что однажды во время танца задницей вывернула из стены выключатель.
— Ну что ты говоришь, Сережа, — притворно возмущается Ирина, снизу вверх взглядывая на него сияющими глазами. — Александр, не верьте ни единому его слову. Все врет... К тому же это был не выключатель, а всего лишь розетка.
Таков был стиль.
Мы постоянно выпивали. Не то чтобы в этом была какая-то физиологическая необходимость. Скорее, была бессознательная установка на алкоголь, как на средство сделать серую, фальшивую жизнь вокруг нас поярче. От выпитого становилось хорошо, мы еще больше теплели друг к другу. К тому же «переборы» постоянно ввергали то одного, то другого из нас в разные причудливые истории, и от этого казалось, что жизнь кипит, а не так монотонна и скучна, как на самом деле.
Нам хотелось быть писателями, видеть все свежо и остро. Спиртное, казалось, давало такую возможность.
Подспудная алкогольная зависимость пришла к некоторым из нас потом, с годами, как болезнь, как расплата.
Я помню, что известную кинофразу тех лет «Пить надо меньше, дорогой товарищ!» мы с Сергеем продолжили так:
«Пить надо меньше, но как можно чаще!», и радостно повторяли ее при любом застолье. А может быть, это и не мы придумали. Но ощущение, что — мы.
И еще о выпивке. Поскольку в компании Сергея и Валерия Грубина (закадычный друг Сережи, упоминаемый им неоднократно) кто-то придумал, что пить надо, исходя из расчета один стакан на килограмм веса пьющего, догнать Сергея по весу и массе мне нечего было и думать, и я старался как-то нейтрализовать это море спиртного хотя бы приличной закуской. Поэтому, когда собирались у меня на Скороходова, 6, я в роли хозяина старался посытнее накормить пьющую братию, чтобы уменьшить, так сказать, разрушительный эффект алкоголя. Конечно, я делал как раз противоположное тому, чего хотели остальные «надраться и воспарить».
Помню усмешку, с какой Сергей оглядел принесенные мною из кухни самодельные котлеты и произнес саркастически: «Шкляринский свой талант не пропьет, он его прообедает!»
Как-то летом, после одного особенно крупного загула я трясущейся рукой набрал Сережин номер и услышал его полный необычной твердости голос: «Все. Завязываю. Больше ни грамма. Предлагаю провести безалкогольный день. Женщины не исключены, но без спиртного. Можем же мы, в конце концов, быть обаятельными и без допинга. Сейчас звоню Грубину».
Мы собрались втроем у меня и сразу же начали названивать знакомым девушкам. К великому удивлению, ни одна не откликнулась на наш честный призыв провести трезво день вместе. У каждой нашлась причина: уезжает, переэкзаменовка, сидит с бабушкой и т.д.
Мы перетряхнули все наши телефоны. Долгие гудки нам стали даже нравиться. По крайней мере, это значило, что подруги просто нет дома, а то бы она, конечно...
Потом мы стали звонить всем друзьям, знакомым подряд. Просто чтобы нарушить навалившуюся на нас тишину. Эффект тот же. Мы были в ужасе. Говорить о литературе без зрителей не хотелось, да и физически это было трудно — после вчерашнего языки не проворачивались во рту.
Так мы просидели, наверное, еще минут двадцать, когда неожиданно раздался звонок. Звонила одна моя очень эрудированная, но, к сожалению, очень некрасивая приятельница. Она приглашала в Дом кино на просмотр. Я в панике отказался.
После этого два моих дорогих приятеля тихо покинули мой дом.
Больше мы таких идиотских подвигов не совершали.
Заканчивались сравнительно «вегетарианские» 60-е годы. Только что была Чехословакия. В Лениздате идеологический барометр постоянно указывал на повышение давления. Запрещались и выбрасывались из плана многие и многие книги. Разбивались вдребезги литературные репутации, калечились человеческие судьбы.
Мы, низовой состав издательства, младшие и средние редакторы, корректоры (известный критик Борис Парамонов, живущий ныне в Нью-Йорке, был тогда как раз корректором в Лениздате), ощущали себя подлеском в глухом лесу, где зловеще шумят только вершины, а внизу темно, душно и тихо.
Готовился 100-летний юбилей вождя мирового пролетариата. К ленинской дате наше издательство вместе с другими более мелкими готовило грандиозную выставку своей продукции. Писатели, жирующие на ленинской теме, требовали увеличения тиражей и хорошей дорогой бумаги для своих книг. Доходило до полного неприличия.
Мне как-то попала на глаза записка в обком тогдашнего руководителя ленинградской писательской организации Олега Шестинского, где он просит «в связи с тяжелым материальным положением и поездкой в Болгарию» (выделено мною. — А. Ш.) для работы над ленинской темой вдвое увеличить запланированный тираж его будущей книги. Долго мы потом распихивали по книготоргам никому не нужные сборники этого литфункционера, спасая его от «нищеты». Были и другие истории в этом роде. Никакого стыда, никаких угрызений совести наши инженеры человеческих душ, конечно, не испытывали.
Сергей все это безобразие безумно переживал. Ходил и громко возмущался. Или зло острил.
Я помню, как однажды, вычитав в газете об очередной премии какому-то литературному лакею, он мрачно произнес: «Все люди как люди, а ты как х.. на блюде». И потом эту нецензурную поговорку всюду повторял. Эти «люди как люди» были хозяевами нашей жизни.
Готовя выставку, мы устанавливали в фойе Дворца Ленсовета на Петроградской стенды с книгами, причем у каждой редакции был свой стенд.
Сережа пришел проведать меня и заодно поглядеть, что выставляется. Я только что переругался с каким-то обкомовским представителем, поставившим на видное место сборники Чепурова и Заводчикова, и задвинувшим в самый край стенда книгу Ахматовой.
Сергей расхаживал между стендами, нагибался, чтобы лучше рассмотреть то или иное издание, театрально заводил глаза и стонал:
— О-ооо-ооо, невозможно... Кого мы читаем! Кто такой этот Федоращенко? Как можно писать с такой фамилией!. А этот... Сероштанов... Может быть писатель по фамилии Сероштанов?!..
Я, словно продавец капризному покупателю, отвечал, что это, мол, скорей всего, псевдонимы.
— У всех у них псевдонимы. Страна псевдонимов. СССР — псевдоним России. Брежнев — псевдоним Ленина. Соцреализм — псевдоним литературы. Оо-ооо, не могу...
Произнося «Дос Пассос», Сергей делал губы колечком, словно пускал кольца дорогого сигарного дыма.
Сергей только один раз показывал мне свои стихи.
Два или три — забыл сколько.
Я их тогда высмеял, кажется. Или просто не проявил к ним интереса. Что-то в этом роде.
Как-то считалось в то время, что проза поэта всегда хуже стихов, а уж стихи прозаика — это вообще Бог знает что. По известному принципу: «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А Сергей уже считался прозаиком...
В общем, стихи Сережины канули, не оставив в моей памяти и следа.
И все-таки один осколок в ней застрял. Было это так.
Мы остановились с ним у газетного киоска на Владимирской площади (бывшая площадь Нахимсона) и купили какую-то газетенку. Сергей развернул ее, перевернул страницу и показал мне. С полосы глянуло довольно глупое лицо какого-то колхозного бригадира с необыкновенными усищами.
Я вопросительно посмотрел на Сережу.
— Придумал шикарную рифму, — заявил он:
И довольный спросил:
— Ну, как?
Рифма была, действительно, шикарная. И прилипла так, что не отодрать.
Где бы и когда бы с тех пор я ни встречал человека с хоть какой-нибудь растительностью под носом, я неизбежно вспоминал эту рифму и так же неизбежно самого Сережу.
Вот вам и «как слово наше отзовется»...
Я однажды придумал, что Сережин отец, Донат Мечик, спереди похож на стареющего льва, а со спины — на американского безработного. Сергей пришел в восторг. Он всем показывал на меня и говорил: «Знаете, как он сказал про моего отца? Мой отец похож спереди...» — и дальше шла цитата.
Сережа умел радоваться за других.
У Довлатова, когда он сердился, как-то совершенно поособенному темнели глаза. Появлялся даже какой-то серый в них налет. И лицо делалось усталым. Но разъяренным я его никогда не видел. Ни разу. Даже не могу представить, как бы это было.
Сережа зашел за мной в Лениздат. Мы идем с ним по Фонтанке на Разъезжую пить пиво.
Весна. На Сергее какой-то совершенно немыслимый серый плащ, глухо застегнутый у ворота и свисающий до самой земли. При огромном Сергеевом росте из-за этого плаща его фигура становится гротескной, почти нереальной, словно движущийся памятник. Я представляю вдруг Дзержинского Феликса Эдмундовича в его знаменитой, стоящей колом шинели на площади перед зданием КГБ в Москве и начинаю дико хохотать. Я ничего не могу с собой поделать, меня сгибает пополам и я валюсь всем телом на парапет.
Сережа, не понимая, что со мной, но, чувствуя, что что-то не так, тоже начинает смущенно подхихикивать. Он обходит меня и нерешительно продолжает идти к мосту, поминутно оглядываясь. Он все идет и идет, а я все стою и стою и только слежу за ним глазами.
Почему я так отчетливо все это запомнил? Наверное, все дело в подсветке. В этом ярком весеннем дне.
«А затем прощалось лето с полустанком. Снявши шапку, сто слепящих фотографий ночью снял на память гром...»
Последний раз я встретил Сережу на Охте, около издательства «Художник РСФСР». Он шел оттуда, а я как раз туда. Сергей был в вязаной шапочке и своей бородой напоминал партизана из какого-то послевоенного неореалистического фильма.
— Уезжаю! — перепрыгнув кучу грязного снега, крикнул он.
— Привет! — ответил я.
Через несколько лет от Андрюши Арьева я узнал, что Сергей умер в Нью-Йорке.